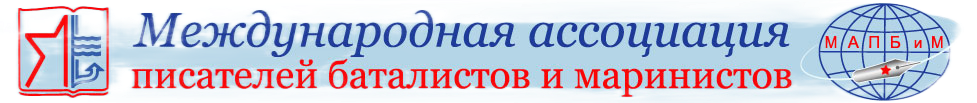«Григорий Алексеевич Явлинский – советский и российский политический деятель, экономист, бывший депутат Государственной думы, заместитель председателя Совета министров РСФСР (1990), экономический советник председателя Совета министров РСФСР (1991), заместитель руководителя комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР в ранге вице-премьера (1991), член Политического консультативного совета при Президенте СССР (1991). Основатель и лидер политической партии «Яблоко» (с 1993). Руководитель фракции «Яблоко» в Государственной думе I, II и III созывов. Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга V созыва. Кандидат на должность Президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000 и 2018 года. Доктор экономических наук».
Всё это может прочесть любой, открывший «Википедию». И далее бегло ознакомиться с основными достижениями и заслугами Григория Алексеевича, признав, что за многолетнюю жизнь этому государственному деятелю и политику самого высокого ранга удалось достичь и добиться многого. А это, безусловно, было бы невозможно без внутреннего стержня и характера.
Но вот чего не узнать из мировой сети, так это мотивов поступков человека. Чем он руководствовался, о чём думал, к чему стремился, на что надеялся, принимая то или иное решение? Чего хотел добиться, а чего избежать? Что старался сохранить, а что – изменить в жизни страны и её народа? Как и как выковывался тот характер, определивший то или иное его решение.
Всё это попытался узнать у самого Григория Явлинского учредитель и главный редактор Российского информационного агентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин.
В.К. – Григорий Алексеевич, великий Суворов, воспитывая армейскую молодёжь, оставил ей один из своих заветов: «Возьми себе в образец героя древних времён, наблюдай его, иди за ним во след, поравняйся, обгони – слава тебе!». У вас в детстве был такой герой, образец для подражания?
Г.Я. – Конечно. Но только не из далёких веков, а тот, кого я мог наблюдать каждый день. Это был мой отец – боевой офицер-артиллерист, трижды орденоносец, на долю которого выпало столько всяких трудностей и бед, что я, уже в зрелом возрасте размышляя над его рассказами, диву давался: как человек может пройти всё это и не сломаться?! Поэтому он для меня образец во всём: человека, мужчины, воина, образец честности и порядочности, скромности и смелости, доброты души и широты взглядов, чуткого отношения к тем, кто рядом, и самоотверженного – к себе, когда дело идёт о долге и чести. Отец никогда и никого не боялся и меня научил любить Родину и быть настоящим, не изменять себе в любой ситуации. А это очень серьёзное дело.
В.К. – Можете рассказать о нём подробнее? Думаю, нашим читателям это будет интересно.
Г.Я. – Великая Отечественная война стала самым страшным, но была далеко не первым серьёзным испытанием в череде тех, которые уготовила ему жизнь. Рано оставшись без родителей — они погибли в Гражданскую войну, он беспризорничал, что, впрочем, в двадцатых годах прошлого века было вполне обычным явлением для нашей страны, недавно пережившей Первую Мировую войну, две революции и ещё Гражданскую войну, полностью поменявших уклад жизни.
Необычным в начале биографии моего отца стало то, что где-то лет до восьми он воспитывался в доме терпимости женщинами, как сейчас говорят, с низкой социальной ответственностью.
В.К. – Это…
Г.Я. – Да-да, сироту-двухлетку отдали от безвыходности девушкам его старшие всего на пару лет братья. Девушки обогрели, накормили, приютили… Многие из них в эту профессию попали не от хорошей жизни, материнский инстинкт у них сохранился, поэтому о мальчишке, умиравшем от голода и холода у них под окнами, они заботились искренне.
А потом он подрос и стало невозможным чтобы мальчик жил в таком месте … да и закрывать притоны стала советская власть. Он снова оказался на улице, и она взялась за его воспитание. И это было не просто уличное воспитание, отец оказался, как я понимаю по его очень скупым воспоминаниям, в одной из банд, занимавшейся воровством, грабежами. И несколько лет своего отрочества провёл в криминальной среде. Происходило всё это на Украине, в Харькове.
Такая жизнь не могла завершиться ничем хорошим, но тут в судьбу отца опять вмешался случай. Пришла зима, малолетним преступникам, ночевавшим по чердакам и подвалам, стало холодно на улице. И тут до них дошли слухи, что неподалёку власти организовали что-то вроде коммуны из беспризорников. Что это такое, никто не знал, но говорили, что там кормят. Поэтому отца отправили на разведку: провести в коммуне несколько дней, а потом вернуться и доложить, стоит ли туда идти остальным.
Так мой будущий родитель познакомился с Антоном Семёновичем Макаренко – выдающимся советским педагогом, которого впоследствии он стал считать своим отцом.
Я помню, что в нашем доме, рядом с папиной кроватью всегда висела фотография Антона Семёновича, и отец подолгу на неё смотрел, вспоминая, очевидно, свою юность и наставления человека, воспитавшего его.
В.К. – Значит, из «разведки» в свою ватагу он не вернулся?
Г.Я. – А некуда было возвращаться. Пару-тройку дней он осматривался на новом месте, а когда собрался идти к своим дружкам, их самих туда привезли – милиционеры взяли во время очередной облавы и доставили прямо к Макаренко. Так что выбор за них сделала судьба.
После коммуны, когда отцу исполнилось лет 16 или 17, он поступил в Батайское лётное училище. Казалось бы, определился с профессией. Но судьба вновь сделала крутой поворот: парни там собрались молодые, горячие, поэтому как-то случился между курсантами конфликт, переросший в массовую драку. Отец в силу своего воспитания не мог остаться в стороне, отстаивал справедливость. И в итоге вместе с ещё несколькими организаторами и активными участниками той потасовки был отчислен из училища.
Куда деваться: ни родни, ни близких. Сел на поезд, добрался до столицы. Заночевал в Сокольниках на скамейке. Днём отправился бродить по парку и вышел к цирку шапито, в котором встретил знакомых по коммуне ребят. Те выступали на арене с акробатическими номерами, взяли его в свой коллектив. Так он стал цирковым. Но, как оказалось, ненадолго.
Однажды, коротая вечер после представления, в компании зашёл разговор, что сейчас на запад и северо-запад через Москву идёт много воинских эшелонов, которые тщательно охраняются. Надо сказать, что на дворе стояла осень 1939 года, приближалась война с Финляндией и переброски войск к западным границам, действительно, возросли. Так вот, отец заявил товарищам, что сумеет проникнуть в любой воинский состав, доедет на нём до границы и тем же способом вернётся обратно. Поспорили, и он отправился к железной дороге.
В.К. – Неужели смог пробраться в эшелон?!
Г.Я. – Пробраться-то он смог. И даже доехал до Киева. Но там его обнаружили и арестовали. Компетентные органы стали разбираться, кто такой, проверили всю его биографию – коммуну, училище, цирк. Долго думали, что с ним делать и, в конце концов, решили отправить парня служить в армию: там такие сорви-головы нужны, и возраст самый подходящий. Поэтому у отца во всех документах место призыва значится «Военкомат г. Киева, октябрь-ноябрь 1939 года». Но если других призывников на вокзале провожали родственники и знакомые, его к поезду доставил милиционер.
Служить ему выпало в Средней Азии. Сначала был рядовым, затем стал сержантом. В августе 1941 года их часть перебросили в Иран, в город Мешхед, а в феврале 1942-го отца направили в Ташкент, на курсы офицеров – артиллеристов. И после их окончания, с двумя новенькими лейтенантскими кубарями в петлицах, он оказался на фронте, приняв должность заместителя командира артиллерийской батареи.
 В.К. – Где ему довелось воевать?
В.К. – Где ему довелось воевать?
Г.Я. – Сначала на Кавказе, там в начале ноября 1942 года он принял боевое крещение, участвуя в оборонительных боях. Потом – высадка на Керченском полуострове. Тяжелейшая операция, один из самых тяжёлых десантов за всю войну. К слову, в Керчи есть Музей воинской славы, так вот в нём есть описание боевых действий батареи моего отца.
Во время жестоких боёв в Крыму он получил тяжёлое ранение, оказался в одном из сочинских госпиталей, где хирург, посчитав положение безвыходным, хотел ампутировать ему ноги. С этим смириться отец не мог и попросту сбежал из палаты за день до операции. Раны открылись и он, потеряв сознание, свалился в придорожную канаву. Но, на счастье, вскоре был обнаружен моряками, направлявшимися в свой госпиталь. Те забрали его с собой, и в этом лечебном учреждении врачи ноги сохранили, и на ноги поставили.
В.К. – Невероятное стечение обстоятельств! Григорий Алексеевич, из рассказов фронтовиков знаю, что многие из них после госпиталей пытались попасть в родную часть, к своим друзьям-товарищам, но не у всех и не всегда это получалось. А как сложилась дальнейшая служба у вашего отца?
Г.Я. – Да, чтобы после выписки из госпиталя попасть в родную роту или батарею, требовалось проявить настойчивость и упорство. Но вы уже поняли, что и того, и другого у моего отца было в избытке. Поэтому, получив предписание кадровой комиссии явиться в совершенно другую дивизию, он всеми правдами и неправдами пытался добраться до своих. Несколько раз ему пришлось объясняться с комендантскими патрулями, почему он движется иным маршрутом, а не тем, что указан в документах, что он не дезертир и не шпион. И в итоге смог разыскать собственную дивизию, полк, батарею и снова стал командовать ею.
Бои шли тогда уже на Украине. А поскольку дивизия была горно-стрелковой, то, соответственно, и воевать отцу пришлось в горах – сначала в Карпатах, а затем, когда началось освобождение Европы – в Татрах. Там и заканчивал войну.
Кстати, бои для него и его артиллеристов продолжались вплоть до конца июля 1945 года: в чешских горах окопались довольно многочисленные отряды эсэсовцев, которые сдаваться не собирались, поэтому приходилось поддерживать нашу пехоту, которая громила их на горных склонах и в укреплённых базах.
В.К. – Местом вашего рождения значится Львов. Это послевоенное место службы вашего отца?
Г.Я. – После войны его часть стояла в Ужгороде, это тоже Западная Украина. А во Львов они – молодые офицеры, прошедшие войну, ездили на танцы, когда выпадало свободное от службы время. Там они с мамой и познакомились: она с родителями приехала туда из Ташкента и тоже бегала с подругами на танцы. В 1947 году они поженились, а вскоре после этого отец демобилизовался и пошёл на службу в органы МВД – стал учителем-физруком в детской воспитательной колонии.
Его судьба, по сути, сделала полную спираль. После Гражданской он был беспризорником, но после коммуны его жизнь изменилась. А после Великой Отечественной, когда снова сирот и беспризорников стало немало, сам стал воспитывать мальчишек и девчонок, оставшихся без родителей и вступивших на скользкую дорожку. 
Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил этому делу. И постоянно повышал собственное образование: окончил вечернюю школу, юридический факультет университета, исторический факультет педагогического института, Высшую школу МВД СССР. Всегда старался быть примером для своих воспитанников, считал, что только так можно завоевать их доверие и уважение.
И для меня он тоже был и остаётся образцом, непререкаемым авторитетом во всём. Я уже упоминал в начале нашего разговора, что это он научил меня любить Родину, внушил, что любить свою страну – это значит, в первую очередь, честно служить ей и её народу, защищать своих соотечественников.
Он сам жил так и старался научить этому как можно большее число молодых людей, включая меня, своего сына. Всё это происходило ненавязчиво, вытекало из ежедневного общения с ним, его однополчанами, вместе с которыми мы часто посещали места боёв, через которые они вместе шли к Победе. И вот там, у разрушенных временем окопов и артиллерийских позиций, я и постигал, что значит любить Отечество – землю отцов.
В.К. – Узнав биографию вашего отца, для меня становятся более понятными многие поступки, совершённые вами в экстремальных ситуациях, на которые богата ваша биография. Например, ваше поведение во время трагедии в «Норд-Осте». Если можно, расскажите о тех часах и минутах подробнее, так сказать, со штрихами и деталями.
Г.Я. – Террористы, захватившие около тысячи человек в заложников в театральном центре на Дубровке, заявили, что готовы вести переговоры со мной. Видимо, для них я был одним из немногих тогдашних российских политиков, выступавших против войны в Чечне.
В те дни я был в командировке в Томске, но, узнав об этом требовании и согласии на переговоры со мной администрации президента, в течение суток вернулся в столицу. От переговоров в захваченном театре, переполненном террористами, меня отговаривали буквально все. Но если есть возможность спасти хотя бы несколько человеческих жизней, надо использовать любой шанс. И я пошёл.
Сначала по площади перед театральным центром, это метров 500 по абсолютно открытому месту, где всё как на ладони, и ты под прицелами с одной и с другой стороны: одни ожидают штурма, другие опасаются, чтобы находящиеся в здании не предприняли попытку прорыва. Нервы у всех напряжены до предела.
Но прошёл без эксцессов. Захожу. Дальше происходит такой разговор:
– Чего хотите?
– Хотим прекратить войну, потому захватили заложников.
– А простые люди тут причём?
– Они голосовали за эту власть, значит, голосовали за войну.
– Да тут в зале половина тех, кто голосовал за меня. Значит, они против войны. Давайте их отпустим.
После этих слов главари террористов впали в ступор. Для них такая информация оказалась неожиданной, вывод из неё – парадоксальным, а вся логическая цепочка – слишком сложной. То есть вся их умственная конструкция обоснования своих поступков рухнула.
Сидят, смотрят на меня, о чём-то думают. Вдруг один из боевиков встаёт, подходит и резко стволом автомата бьёт мне в ухо. Вот такие выводы он сделал из нашего разговора. С тех пор, кстати, есть проблемы со слухом.
В.К. – А какой вывод сделали вы? Страшно было?
Г.Я. – Страх — неприятное чувство, но присущ он, наверное, каждому нормальному человеку, это мне ещё отец объяснил. Главное, уметь ему не поддаваться и чтобы страх не мешал делать дело. А выводы… Я понял, что передо мной, скажем так, особая публика. Они – дети войны, которая шла на их родине, они выросли на войне и ничего другого, кроме войны, не знали. И что самое страшное – знать не хотели. Война – это всё, что они понимали и умели в этой жизни. Провести какие-то спецоперации или теракты – да, а вот понять их цель, объяснить для чего это… У них даже вопросов таких не возникало.
Первый раз я оказался в Чечне в ноябре 1994 года, когда спасал из плена российских танкистов, захваченных во время авантюрной попытки штурма Грозного как бы дудаевской оппозицией. Тогда мне довелось вести переговоры и с Дудаевым, и с Яндарбиевым. Это были люди, которые учились в советской школе в одно время со мной, люди одного языка и одного уровня начальной культуры. Поэтому при всем различии и даже несовместимости позиций мы могли разговаривать и пытаться понять друг друга. А захватившие заложников в театральном центре на Дубровке – совсем другое поколение. Если те говорили нечто неприемлемое, пытались обмануть и надо спорить, жестко добиваться своего, то эти, молодые, вообще ничего не могли объяснить, ничего связать в логическую цепочку! И мой элементарный вопрос тут же поставил их в тупик и сработал, как раздражитель…
Короче, мне стало ясно, что придумать ответ на вопрос «Что делать?» чтобы спасти людей мне надо самому — они даже требования не могут сформулировать. В ходе длительных обсуждений разъяснял, что никто в одну ночь войну не прекратит, и я не президент и вопрос вывода войск не решаю. Но возможно Путин может переговорить с Масхадовым по телефону и это будет началом. Они долго между собой обсуждали и говорят: «Если такие переговоры начнутся, мы выпустим половину людей».
У них в заложниках, если не ошибаюсь, тогда более 900 человек находилось, и, если они отпустят половину… Продолжаю: «Сейчас я отсюда выйду и поеду в Кремль. Предложу такой вариант. Но когда я буду в Кремле, от вас должны последовать какие-то встречные действия, чтобы в Кремле поняли – я не фантазирую, что договорённость действительно есть, и она вами будет соблюдаться».
Стоят, смотрят, ничего не говорят… Чувствую, опять тупик. Нет у них понимания как договариваться. Люди, которые стрелять и взрывать умеют – есть, а переговорщиков нет, а без этого как разговаривать.
Они опять отошли, сели, долго о чём-то говорили. А время идёт. Тогда я предложил в начале моих переговоров в Кремле выпустить детей в возрасте до 15 лет. Они, посовещавшись, согласились отпустить тех, кому нет десяти. На этом сошлись, и я направился к выходу.
Приезжаю в Кремль. Глубокая ночь. Президента в офисе нет. Разговариваю с главой администрации. Рассказал ему обо всём, что происходило внутри здания. Он меня спрашивает: «А вы гарантируете, что после начала телефонных переговоров с Масхадовым они не взорвут театр?». Странный вопрос. «Ну как я могу что-либо гарантировать от лица террористов? Я только могу вести переговоры с ними, потому что со мной они хоть как-то разговаривают». Под утро из театрального центра выпустили восьмерых маленьких детишек.
Ну, а дальше вы все знаете. Никаких переговоров по телефону у президента не было — был штурм. Террористы были уничтожены. Много заложников погибло.
В.К. – Григорий Алексеевич, вы упомянули о полных драматизма событиях конца ноября 1994 года, предшествовавших вводу войск на территорию Чеченской Республики. Сейчас уже мало кто помнит подробности тех осенних дней. Но ещё меньше людей знают о вашей роли в разрешении судеб российских солдат и офицеров, которые тоже, по сути, оказались заложниками в Грозном ещё до начала первой чеченской кампании. Можно вас попросить рассказать и об этом эпизоде вашей биографии?
Г.Я. – Да, это действительно тяжёлые моменты. В ноябре 1994 года, как вы правильно отметили, некоторые чеченские политические лидеры попытались вооружённым путём отобрать власть у генерала Джохара Дудаева. Те, кто поддерживал их в федеральном центре, выделили для этой авантюры, иначе это не назовёшь, танки, экипажи которых набрали из солдат и офицеров Кантемировской дивизии.
Штурм провалился. Многие из российских военных погибли на улицах Грозного, многие оказались в плену. В Москве не нашли ничего лучшего, как полностью от них откреститься: ничего-де, не знаем, приказа никакого не давали, все эти люди действовали по собственной инициативе.
Дудаев тогда прямо заявил – признаете, что пришедшие на танках, ваши военные, мы их отпустим. Если нет – значит, они наёмники, под конвенцию о военнопленных не подпадают, и мы их расстреляем.
А дальше что происходит: Ельцин как верховный главнокомандующий хранит гробовое молчание, Министерство обороны в лице генерала Грачёва от танкистов отказывается, МВД в лице генерала Ерина руками разводит, ФСБ, которое тогда возглавлял Степашин, плечами пожимает. Начались политические игры, где на кону стояли жизни конкретных людей. И эти жизни висели на волоске.
Как лидер фракции в Госдуме, иду в думский комитет по обороне, оттуда звоню в Грозный. Меня соединяют с генералом Дудаевым, тогдашним самопровозглашенными президентом Чечни. Представляюсь и говорю прямым текстом: «Как депутат и государственный деятель Российской Федерации признаю, что находящиеся у вас в плену военные – это наши, российские солдаты и офицеры. Считайте это официальным заявлением».
Последовало секундное молчание, потом Дудаев спросил:
– Дальше что?
– Готов, – говорю, – приехать в Грозный и остаться у вас до разрешения ситуации вместо пленных.
– Хорошо, жду, приезжайте.
В.К. – Это было спонтанное решение – предложить себя в заложники вместо военных – или вы продумали этот вариант заранее?
Г.Я. – Я точно знал одно: солдаты и офицеры выполняли приказ, многие из них погибли, значит надо использовать любую возможность, чтобы спасти тех, кто остался жив и находится в плену. Было понятно, что это государство отдавало приказ, а теперь отказывается, и я, как российский депутат, несу ответственность за происходящее. Как можно требовать от солдата выполнять присягу, если Родина в решительный час не только не может защитить его, но и вообще отказывается? Так я понимаю жизнь, так я понимаю ответственность политика, избранного народом.
А решение предложить обмен на самого себя родилось по ходу. И что ещё я мог предложить?
Правда, после того как условился с Дудаевым, сильно задумался.
В.К. – Пожалели?
Г.Я. — Нет, думал, как буду добираться до Грозного. Наши власти не помогут…. Машина и поезд отпадают — слишком долго. Рейсовых самолётов тогда уже не было. Позвонил генералу Руслану Аушеву, Герою Советского Союза, тогдашнему президенту Ингушетии. Коротко обрисовал ситуацию, говорю: «Мне нужен самолёт». Он отвечает: «Берите, во Внуково мой борт стоит».
Перед выездом на аэродром собрал фракцию «Яблоко» и рассказал свой план. Несколько депутатов нашей фракции, председатель Комитета Госдумы по обороне и пара журналистов полетели со мной. Прилетели в Моздок. Оттуда на «пазике» 127 км до Грозного. Добрались до так называемого президентского дворца в центре города, когда было ещё раннее утро. А дальше стали непонятные вещи творится: Дудаева на месте нет, уехал, никаких распоряжений относительно нас не оставлял. Что делать?
Чтобы скоротать время, решили пройти по городу, осмотреться. И увидели остовы сгоревших танков. А рядом с ними – тела российских солдат и офицеров, которых никто не собирался хоронить. Их глодали бродячие собаки… Мы пошли на рынок, купили там гробы, наняли каких-то бродяг в помощь и отправились на улицы собирать останки.
В это время через посыльного передали, что меня ожидает Зелимхан Яндарбиев, он тогда назывался вице-президентом. Прибыли на встречу он меня встретил и почти целый день я просидел с ним в его кабинете с такой многочисленной охраной, что в какой-то момент у меня появилось ощущение, что я, скорее, арестованный, чем переговорщик. И так мы просидели до глубокой ночи.
Только потом выяснилось, что всё это время Дудаев находился на переговорах с Грачёвым в расположении федеральных войск недалеко от Грозного. И пока они общались, я находился в комплексе правительственных зданий фактически как заложник того, что главу не арестуют. Такую роль отвёл мне генерал Дудаев.
С ним мы встретились лишь совсем уже поздним вечером. Я, более полно владея обстановкой, предложил отдать мне пленных и те тела, что были собраны на грозненских улицах и уложены в купленные мною гробы. И живые, и мёртвые пусть отправятся в Москву, а я останусь в Грозном. На что получил обескураживающий ответ:
– Всё поменялось, все договорённости отменяются. Уезжайте.
– Как уезжайте? Вы же согласились, и я прилетел? Так не пойдёт! – был мой ответ.
Генерал понял, что я настроен серьёзно. И мы продолжили разговор. Долго говорили. О разном. Очень тяжело всё это шло. У него в плену находилось 14 живых российских солдат и офицеров. Он, вроде, пообещал, что отдаст их Грачёву. В итоге многочасового разговора мне удалось договориться о семерых, то есть половине. А те, что в гробах, его вообще не интересовали, я их просто забрал без всякого обсуждения.
Прощаясь, Дудаев сказал: «Больше не приезжайте. Грачёв мне важнее во много раз, чем вы. Он самый могущественный человек в России». На том и разошлись. Но, как выяснилось, это был ещё не конец.
Через какое-то время, уже ближе к двум часам ночи, вся наша делегация прибыла в назначенное место, чтобы принять пленных, которых нам должны были передать. Дудаева нет, всем заправляет начальник его охраны. Я к нему:
– Где семь человек, которые должны улететь с нами в Москву?
– Никто с вами не поедет, они сами так решили.
– Кто?
– Ваши военные. Они не хотят с вами ехать.
– Они, что, хотят в яме сидеть?
– Да, это их решение, они хотят остаться, – после этого подходит, отводит чуть в сторону и говорит: «Уезжайте скорее. Как только рассветёт, город начнут бомбить, начнётся бой. Если хотите живыми добраться до аэропорта – немедленно покиньте Грозный. После того, как на город упадут первые бомбы и снаряды, мы вам ничего не гарантируем».
Говорю ему — «Я хочу переговорить с Дудаевым«. Он отвечает «Дудаев спит. Уезжайте!».
Это был сложный момент. Требовалось быстро принять решение.
Вышел к своим, обрисовал, что нас может ждать в ближайшие несколько часов. Кто-то поддался эмоциям — настаивали на отъезде. «Нет, – говорю, – без танкистов я не уеду. Вы вольны поступать, как посчитаете нужным, а я остаюсь здесь, с ними». Должен сказать, что вместе со мной выразили готовность остаться в заложниках два депутата моей фракции — Сергей Митрохин и Алексей Мельников. Честные и смелые люди.
В.К. – Вы что, тогда готовы были погибнуть?
Г.Я. – Я был готов сделать всё возможное, чтобы спасти наших российских военных. А если для этого надо — рискнуть своей жизнью… Что ж, мой отец на фронте ради своих сослуживцев делал это не раз. Однажды, практически без всякой надежды на спасение, организовал эвакуацию из-под огня тяжело раненого замкомандира полка. Так почему я не должен был использовать все имевшиеся у меня возможности, до самой последней?
Возвращаюсь в кабинет к начальнику дудаевской охраны, говорю: «Приведите ко мне танкистов, пусть они сами мне скажут, что хотят остаться». Через некоторое время приводят 14 человек. Выходит вперёд один, говорит:
– Товарищ народный депутат, я старший по званию. Разрешите доложить?
– Докладывайте.
– Мы приняли решение: или все уедут, или никто.
– Почему?
– Мы товарищей не бросим.
Я догадался — это обман. Им сказали, что те, кто останутся, будут казнены, Чтобы всех их оставить как бы по их собственному желанию. Тут меня как прорвало. Забыл, что я депутат… Поворачиваюсь к начальнику охраны и прямым текстом ему в лицо:
– Ты, что, … Ты, …, зачем им такое сказал? Мы с вашим генералом совсем о другом договаривались. Значит так: или я их сейчас забираю, или остаюсь тут вместе с ними.
Главный охранник понял, что я не шучу. И вот такой поворот для него стал совсем неожиданным. Они не хотели, чтоб я остался с пленными танкистами. Возможно, у него был приказ: выпихнуть меня из Грозного как можно быстрее на любых условиях. Почему? Я не знаю…
В общем, опять начались мучительные препирательства, которые длились несколько часов.
В.К. – Что в итоге?
Г.Я. – В пять утра на том же автобусе — «пазике» — мы поехали обратно в Моздок, и в итоге я вывез из Грозного на двух самолётах семь живых российских танкистов и двадцать погибших, которых укладывал в гробы собственными руками. Я знаю имена и фамилии всех спасённых, но лишь троих из тех, кто погиб на грозненских улицах.
Те, кого привёз живыми и передал родным – капитан Андрей Русаков, капитан Александр Шихарев, старший лейтенант Александр Машев, лейтенант Андрей Морсин, рядовые Геннадий Андросов, Эдуард Ломакин и Сергей Прокопов.
А те, кто вернулся «грузом 200» – сержант Зубков, рядовой Кандауров, рядовой Самрай. Чтобы идентифицировать остальных, требовалась экспертиза. Увы, что стало с теми семерыми, кто остался в Грозном, мне ничего неизвестно…
В.К. – Как вас встречали?
Г. Я. – С аэродрома «Чкаловский» я привёз семерых ребят к дверям Государственной думы. Там уже ждали нас их родители. Позже, в разных городах России на встречах с избирателями, ко мне в кулуарах не раз подходили люди и благодарили за спасённых сыновей. Но сам я, если честно, судьбу этих людей дальше не отслеживал: мы прибыли в Москву днём, а утром того же дня состоялся ввод федеральных войск в Чечню. Началась Первая Чеченская война…
В.К. – Григорий Алексеевич, какой главный вывод вы для себя сделали из всего случившегося с вами в те дни?
Г.Я. – Очень простой и естественный: принимаешь решение – бери на себя ответственность за последствия, в том числе и за действия людей, которые твоё решение будут выполнять. Это должно быть нормой для каждого политика, государственного деятеля, военного, любого человека, облечённого властью.
В.К. – А сейчас, если бы появилась возможность, как говорится, отмотать плёнку назад, какие из своих прежних решений вы бы отменили, или поступили иначе, реализуя их?
Г.Я. –Так сразу и не скажешь… Знаете, меня достаточно часто критикуют, поэтому ответ на этот вопрос я оставлю для своих критиков. Пусть они думают и решают, что я не так сделал, находясь на том или ином посту. Я же готов отчитаться и обосновать каждое своё действие или поступок.
 Например, я ушёл из правительства Ельцина в 1990 году. Подчёркиваю, не в 1991, когда Советский Союз уже развалился, а в 1990-м. Почему? Потому что меня не устраивал курс реформ, которые тогда проводились, и я, сообразуясь со своими профессиональными взглядами и человеческими принципами, выступил против этого.
Например, я ушёл из правительства Ельцина в 1990 году. Подчёркиваю, не в 1991, когда Советский Союз уже развалился, а в 1990-м. Почему? Потому что меня не устраивал курс реформ, которые тогда проводились, и я, сообразуясь со своими профессиональными взглядами и человеческими принципами, выступил против этого.
Я хотел сохранить экономический союз бывших советских республик: с единой валютой-рублём, единым таможенным и правовым пространством, свободной торговлей… Знал, как это можно сделать, разработал Экономический договор между республиками, он был подписан 13 руководителями республик в Кремле осенью 1991 года.
Вместо этого — Беловежская пуща. Я был заместителем председателя правительства и ушёл. Больше не возвращался, несмотря на предложения. В итоге мы сегодня имеем то, что имеем, расплачиваясь за неверно выбранный курс экономических реформ и государственной политики в России и на территории бывшего СССР. Я, как мог, выступал в начале девяностых за другое. И считаю, что был абсолютно прав.
В.К. – Григорий Алексеевич, спасибо за интересный и откровенный разговор. Основными подписчиками сайта «Ветеранских вестей» и наших печатных изданий, как вам известно, являются те, кто большую часть жизни посвятил служению Родине – ветераны различных российских силовых структур. Что бы хотели им пожелать?
Г. Я. – Ветераны силовых структур – это люди, для многих из которых честь и достоинство — не пустые слова. Эти люди не просто знают, что такое любить Отчизну и народ, — они всей своей жизнью и службой доказали, что умеют это делать. Хочу пожелать им, чтобы сегодня они были умными и, конечно, здоровыми.
Потому что во многом от их ума, честности, дальновидности и мудрости зависит будущее нашей страны.